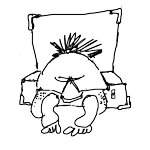|
То была удивительная осень, а еще удивительней те места, где я ее встретил. А ведь не хотел ехать. Не экзотикой – холодом отдавало само название Килп-Явр, трудно произносимое и содержащее во второй части нечто схожее с русским «яр». И потом всякий раз, когда так неожиданно вырывали из обстановки, с которой я успевал сжиться, и которая становилась как бы моим продолжением в пространстве, я чувствовал одно и то же – растерянность. Но в этой поездке я был счастлив.
Наверно, все началось с того момента, когда грузовик, в открытом кузове которого я болтался, перемахнул по тяжелому мосту через узкую в этом месте Кольскую губу и вылетел на другой берег, откуда за плотным, темно-синим, слегка взволнованным простором воды открылся своими светлыми осенними домами Мурманск. Издали поблескивали его окна, и все это вместе со скрещенными мачтами судов, с застывшими в позе актеров мима портовыми кранами, с чайками, которые плавали в воздухе, подрагивая выгнутыми белыми с исподу крыльями, с гидросамолетом, который вскидывая на воде две пенно-снежных гряды, легко обогнал мой грузовик и, неожиданно грузный, низко пошел над водой, — все это было началом того ошеломленного состояния, которое не покидало меня еще многие дни.
Грузовик мчался, словно тоже хотел оторваться от глянцево-сизого полотна дороги, в лицо, выхватывая дыхание, упругими струями бил северный ветер и был слышен только его рваный гул…
Далее грузовик покинул берег и долго и медленно пробирался вверх и вниз среди низких полувыжженных сопок по пепельно-пыльной разбитой колее. Но и это было прекрасно, потому что не было ветра, потому что стояло неяркое позднее солнце, потому что вся местность была пронизана запахами нагретых мхов, затянувшихся болотцев, перезревших ягод и вялых грибов. И чем дальше мы ехали, тем свежее, чище становилась зелень, тем выше сопки, тем глубже и голубее небо…
Затем выдалось несколько влажных матовых дней. Столовая была на ремонте, и обедать приходилось на воздухе за столами, что вынесли и поставили рядом, на траву. Они были деревянными , и дерево разбухло от сырости и источало горьковатый запах. Несколько раз выпадал густой туман, а, может, это опускалась туча, — мы жили довольно высоко. Тогда все — и хлеб, и алюминиевые тарелки, и ложки – покрывалось прозрачными пупырышками росы. Но однажды утром снова пробилось солнце, и оказалось, что внизу, вокруг – прекрасная зеленая страна. Там простирались, переваливаясь через далекие сопки, леса, словно, да простят мне это сравнение, стада тонкорунных овец, и среди них, среди лесов этих, стояли. иногда покрываясь мелкой чешуйчатой рябью, темные озера.
И все же эта зеленая страна была слишком совершенной, слишком чужой, и надо было спуститься, чтобы хоть немного понять ее. И я спускался туда каждый день, И каждый день делал открытия. Там хозяйничала осень. Еще были изумрудно-зелены и свежи травы, еще под влажной губкой мхов высоким прохладными голосами заявляли о себе родники, но уже пропала напряженность летней бессонницы. И сам воздух из жесткого, пронзительно, шелестящего, как атлас, превратился в податливый, отдающий меланхолическим запахом увядания.
Когда я вспоминаю ее, то прежде всего вижу медленное паденье первых листьев, таких ярких – оранжевых и желтых – на малахите мха. А потом восстанавливается другое: серо-золотистое болото с седыми островками заячьего хвостика, чащоба, продравшись через которую, я долго снимал с себя паутину и стряхивал колкую труху, потом сухой склон сопки, где я набрел на целое семейство подберезовиков и сложил их в тени холодного камня, чтобы взять на обратном пути. Да так и забыл…
Однажды, одолев несколько сопок, я вышел к небольшому круглому озеру. Природа не скупа на совершенства, но это озеро было одним из высших ее созданий. О нем спустя несколько лет я написал стихотворение. Середина там была такая:
…А осень
Повесит паутины нить,
За ней еще одну – и свяжет
И пленником своим тотчас же
Объявит. Молча доведет
До озера. Там черенками
Листва постукивает в камни,
Кружит, планирует, пока не
Заденет неподвижность вод.
Там валунов литые спины
Уходят в заросли. В глубины;
И лес всего наполовину
Не вымысел, когда блеснет,
Плывя из сумерек подводных,
Соцветье рыб каких угодно
И на поверхности уснет…
Да, так оно и было: когда я последний раз пришел туда, деревья уже пламенели, и листья как искры, выбивались из пламени и, поймав налету свое отражение, стремительно планировали, чтобы слиться с ним.
Озеро… К нему с крутых высоких склонов сбежали деревья, и поскольку отставшие еще торопились вниз, когда первые уже сокровенно замерли над водой, увидев себя в ней, то стало их очень много и молчаливой толпой обступили они его в сотню рядов. Но не только деревья стремились сюда. Не выдержав тяжелого сокрушающего разбега, обрушились в него огромные гладкие валуны, и теперь сквозь прозрачную толщу воды темнели их тела. А несколько все же уперлись, набычились и остались на берегу, - и в тени их было до последней песчинки ясно дно.
Было много ягод. Попадались такие поляны, где, не сходя с места, можно было набрать полведра черники. Но у меня не было ведра, и я пригоршнями отправлял ягоды в рот. Я сдавливал их зубами, деснами, языком и, охлаждая горло, они отдавали острый, дразнящий, не утоляющий жажды сок.
Было много грибов. Иногда, нанизав на два-три тонких длинных прутика, я приносил их нашему повару. Он снимал с упругих шляпок чуть липкую пленку, и потом, белесые, одинаковые, они лежали мокрой покорной горкой в алюминиевой миске перед тем как отправиться на темный, неистово кипящий маслом противень.
Я открыл для себя два направления. В одном, где было то озеро, спуск вскоре прекращался, и на пути поднимались сопки, а во втором можно было еще долго идти вниз, через березовые рощицы, расположенные террасами, где как древние идолы были разбросаны розоватые каменные глыбы. Эта бесконечная лестница зеленого, белого и розового легко уступала свои ступени, и сам спуск скорее походил на полет.
Странно, я совсем не запомнил осенних ночей. А ведь они были, и где-то неподалеку настороженно стучал движок, и за дверью охватывала тьма, едва ощутимо покалывающая влагой. И потому тянуло обратно — к свету, к теплу, к людям. Но о людях, рядом с которыми я жил той осенью, которых любил и которых избегал, — о людях этих я не сумел бы сейчас написать.
4 марта 1971
|
|
Даже и не знаю, сохранилась ли она, существует ли, но пять лет назад еще была, - черные избы высоко на зеленом угорье, пронизанном мягкими вечерними лучами. А говорили, что деревню скоро перенесут ближе к колхозу, - дескать, и электричество в нее не провели, что не нужная она никому. И все-таки жалко, если ее больше нет, деревни Бежаны, на восемь дворов, где ложились спать с заходом солнца.
Добирался я до нее долго. Сошел с поезда на станции Толмачево, увидел с высокой насыпи пойму на две стороны, по которой извилисто уходила в лесную даль речушка Луга, поблескивая в своих коленах, вдохнул медово-пряный запах пойменных трав, спустился мимо надрывно воющих грузовиков, хватающих колесами крутизну пыльной дороги, и часа два в смиренном волнении бродил близ берега, поджидая катерок.
И вот он сочно застучал под железными фермами высоко летящего однопролетного моста и показался сам – похожий на старинный чугунный утюг с окошками-дырочками, чтобы угли дышали… Громоздкий, он занимал чуть ли не треть речной ширины, но двигался уверенно и даже с некоторым вызовом к напирающим берегам. Еще часа два длилась посадка: то баба какая-нибудь в гроздьях мешков и кошелок возникнет в проходе сумеречного салона и, сбросив свою ношу на и под лавку, выдохнет шумно, сядет и, косясь на соседей, поправит платок, то сизощекиий дядька, крепко и слегка внутрь ставя ноги в кирзовых усохших сапогах со сплющенными носками, бухнет на пол авоську с банками краски и бумажным кулем гвоздей и, выковыряв коротким тугим пальцем папиросу из рыхлой пачки «Беломора», спросит спички… Рядом поплескивает речка, а по салону уже разносится сложный запах деревенского житья.
Наконец катерок отвалил, лягнув на прощанье жалкий причал, и затарахтел, выбираясь на стремнину. Мимо поплыли берега, что виделись с насыпи, откачалась молча их высокая темная трава и – дерево за деревом – начался лес. Отскакивая от стволов и густых крон, коротко застучало эхо, в волнах заметались отражения темно-красных гроздей рябины, и ивовый стебель, боевым луком выгнувшийся против быстрого течения, распрямился на миг, словно выбросив в пространство тяжесть невидимой стрелы.
Катерок неуклонно наступал, словно пытаясь выплеснуть речку из русла, - вода шарахалась в стороны из-под тупого носа, затопляя глинистые берега, потом бросалась назад, и две ее волны сталкивались за кормой, образуя упругую впадину, и словно пропадали там в неведомой щели. Лес менялся. Подходил ближе и отступал. Порою огромные ели спускались по косогору, и между черных тяжелых стволов мрачно проглядывали древние валуны в прозелени мха, плесени - оттуда, как из погреба, дышало хладом и сыростью.
Уже давно отобедал салон и повыбрасывал в круглые окошки-иллюминаторы свои объедки, что остались укоризненно покачиваться на волнах, уже лес помрачнел и посуровел, и закат акварельно порозовил воду, а катерок все тарахтел. И еще много раз он сбавлял ход, толкался о берег, чтобы выпустить пассажиров, прежде чем капитан в белой фуражке объявил в мегафон, что следующая остановка – Бежаны. Я подхватил свой тощий рюкзак и замер на палубе, пока из-за поворота не поднялось все в синеватых вечерних складках изумрудное угорье с черными треугольниками крыш наверху.
Спал я в избе на краю деревни вместе с дедом, про которого здесь говорили, что в Гражданскую он был первым казаком. А если бы нашлись сомневающиеся, дед подвел бы их к прозрачной от старости обрамленной фотографии, на которой окаменел молодец с буденовскими усами и в фуражке со звездой. Ногу в высоком сапоге он поставил на стул и руку на колено положил, другой же рукой прижимал к бедру эфес шашки, которая, как бы пружиня и звеня, упиралась в пол. Дед и теперь ходил в военной фуражке - неужто той самой? - и только на ночь с явной неохотой снимал ее, вешая рядом с фотографией на огромный гвоздь.
А какое было утро! Весь косогор поседел от росы. Она как старое серебро покрывала стебли трав и в еще не греющих лучах вспыхивала и переливалась тяжелыми прозрачными горошинами. Далеко внизу плавно проносила свое долгое гибкое тело речка, и над ней стояло молочное облако тумана.
Умывался я у родника, падающего лентой между холодных мокрых камней, а когда шел к избам по просыхающей стерне, отовсюду уже раздавался стеклянный стрекот кузнечиков – они выскакивали с нагретых пригорков, на мгновение вычерчивая в солнечном воздухе крутые траектории. И все это вместе с утренним лаем собак, криками петухов, недовольным похрюкиванием свиньи создавало ту музыку деревни, естественней которой, казалось, и нет ничего на свете.
На завтрак были грибы в сметане с вареной картошкой; за открытым окном носились и взбудоражено чирикали воробьи, косясь на хлебные крошки, , рассыпанные по столу. И был день, и был лес, и были подосиновики и белые, и было купание в холодной и быстрой речушке, и снова был вечер – в бледно-оранжевом воздухе роилась мошкара, и по угорью поднималось наискось стадо коров, глухо побрякивала боталами.
В избах стали зажигать керосиновые лампы – тускло и желто затеплились окошки. Порой кто-то там двигался с тяжелой лампой в руке, тогда свет отступал от окна и мигал в глубине неуверенно и тревожно, а потом снова успокаивался и, рассиявшись, желтил стекла. И когда я проходил по деревне, к окошкам лепились лица старух, поворачиваясь вслед, и их шевелящиеся губы да темные глазницы придавали им вид вещуний.
Внизу под косогором уже стояло белесое облако тумана, из него кое-где чернели выпуклыми островками макушки стогов. Я начал спускаться туда, погружаясь по колено, по грудь, с головой в этот тепловатый, молочный, слепой мир. Он был неодинаков – разреженней и плотнее – и я ощущал его дыхание. Казалось, он еще формируется, и волокна тумана все еще наплывают, медленно сворачиваясь в спирали от встречи с препятствиями. Поначалу я еще видел свои ноги, разрывающие бахрому, а подняв голову – ртутно мерцающие одинокие звезды, но затянулись новыми слоями последние оконца над головой – и все ослепло. Я знал, что набреду на один из стогов, но едва впереди обозначилась его огромная темная масса, как я остановился в нерешительности. Белесое безмолвие то ли окружало, то ли сторожило меня. А когда среди этой слепой тишины неожиданно и резко хлопнул охотничий выстрел, и заряд, прошелестев отнюдь не в отдалении, ударил во что-то вроде дерева, я решил, что самое время вернуться в деревню…
Не сразу я нашел, куда идти, и только почувствовав, что поднимаюсь, успокоился. Я вышел, словно вынырнул на поверхность, из душной пугающей глуби, и потом, стоя перед избой, в которой раздавался бодрый храп деда, все смотрел на молочное озеро, затопившее последние островки стогов, на мелкозубчатый лес за невидимой речкой и, подняв голову, - на черный осеребренный конек крыши, задранный в небеса.
Сколько уже перевидено всякого; безмолвно лежит оно где-то на самом дне памяти и вдруг обнаружится, выплывет со всеми своими подробностями – и трудно вдруг станет, и не знаешь, что делать с ним.
1970
Существует предположение, что название деревни происходит от древнерусского «бежа» — заболоченная местность.
В деревне Бежаны Дремяцкого погоста Новгородского уезда по переписи 1677—1678 годов, помещице Марье Кириловне Бибиковой принадлежало 4 крестьянских двора и два двора бобыльских.
Упоминается, как деревня Божани на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года А. М. Вильбрехта.
Затем, как деревня Бежана она обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.
БЕЖАНИ — деревня, принадлежит титулярной советнице Чернышёвой, число жителей по ревизии: 27 м. п., 17 ж. п. (1838 год).
В середине XIX века в деревне была возведена деревянная часовня во имя Святого Николая Чудотворца.
Из Википедии - 2017
|
|
Он уходил от них неверными мелкими шагами, ни разу не оглянувшись, не помахав рукой, и они молча смотрели ему вслед.
- Ты смотри, что делается, - не выдержав, сказал кто-то.
Викторина, хозяйка газеты тут же обернулась к говорившему и громко, чтобы все слышали, сказала:
- А что удивляться – он нас больше начисто не помнит. - Поехали! – кивнула она водителю и автобус, утробно пророкотав, повез дальше редакцию, которой она два раза в год дарила дружеские загулы. Считалось, что это укрепляет коллектив.
Климов и в самом деле не помнил и не понимал. Действительность, еще вчера такая просторная, щедрая, многовозможная, с неясными, но притягательными далями, теперь плотно сдавливала его, как скорлупа, и под этой душной скорлупой билась одна-единственная мысль: Как же так?
Он ничего не понимал, и даже когда ему сегодня утром рассказали, не вспомнил, не смог вспомнить. Гербер уже не было – уехала домой на первом поезде. И это было первой мыслью – если бы задержали, он бы уговорил, извинился и все такое… Теперь лавина опасности укатилась далеко вперед и поздно было вставать на ее пути. Она стала неуправляемой.
- Мы сделала все, чтобы ее задержать, - бегал перед ним по номеру заместитель Викторины Рачинский, выпрастывая руки из карманов пиджака, чтобы еще раз растерянно развести их в стороны. Его маленькие на выкате глаза, жидкие бородка и челочка и вся его невеликая, сутуловатая, с брюшком, фигура изображали огорчение, сочувствие и праведность.
- А что Викторина? – задал Климов вопрос, подразумевавшийся с самого начала разговора, и Рачинский, который все более напрягался оттого, что, не спрашивая о главном, его вынуждают говорить лишнее, со вздохом облегчения выдал:
- Она рвет и мечет. Лучше к ней пока не ходи.
- Она не хочет со мной поговорить? – спросил он дрогнувшим голосом.
- Нет… не то, что не хочет, - замялся Рачинский и глаза его забегали по стенам номера, словно в поисках правильного ответа, - она ДОЛЖНА с тобой поговорить. Только не сейчас. Надеюсь, ты понимаешь, что она обо всем этом думает…
- О чем об этом? – спросил он. – Может, Гербер врет. Ну, не помню я! Как на духу говорю – не помню!
- У Гербер, - печально из-под бровей посмотрел Рачинский, - на руке вот такой синячище. – Он обхватил свою руку выше локтя и пошевелил пальцами, как бы нащупывая синяк. – И губа разбита…
Климов сделал гримасу и, как каратист, со стоном ударил ребром ладони по столу. Рачинский вздрогнул.
Викторина вызвала его через час. На лице у нее было написано глубокое личное оскорбление и, как ни странно, жадное любопытство. Рачинский стоял сбоку, как бы одновременно поддерживая своим видом и ее, и его.
- Ну, рассказывай, - сказала она, брезгливо разомкнув губы.
- Да что рассказывать, Викторина Серафимовна, что рассказывать…- запричитал Климов. – Клянусь, ничего не помню. Ну, начисто память отшибло. Что мы пили-то?
Викторина переглянулась с Рачинским – и Климов понял, что про питье он – зря.
- Плохо, что Гербер помнит. - сказала Викторина. - Ты нанес ей несколько сильных ударов, в том числе по лицу. Она сказала, что так этого не оставит. У нее будет медицинское освидетельствование, и, можешь не сомневаться, весьма серьезное. Даром, что дядя у нее терапевт. А вот что будет у тебя, кроме твоего «не помню»? Тем более, что к нам ты теперь не имеешь никакого отношения.
Да, она не хотела впутывать в этот скандал свою газету. Он был приглашенным, почетным, так сказать гостем. Из вышестоящей организации. Из отдела пропаганды, которому она непосредственно подчинялась… Если до них дойдет, не сносить ему головы. Ясное дело – нельзя было ему пить. Он же вегетарианец, помешанный на собственном здоровье. Трезвенник. Небось, от первой же рюмки в головку ударило... А с Гербер он всегда соперничал, еще когда заведовал отделом в газете. В общем, все по Фрейду.
Климов молча сидел, свесив руки между колен и уронив на грудь свою крупную голову. Его покорно согнутая мощная шея, выпиравшая из-под белого воротника рубашки, вызывала желание судить.
- Ты должен вспомнить, - снова разомкнула она быстро пересыхающие после вчерашнего ресторана губы, - только этим ты можешь помочь себе. Она сделала акцент на слове «можешь», параллельно отметив, что два однокоренных слова рядом звучат отвратительно. - Мы ведь, - обернулась она к Рачинскому, - ничего не знаем. Ты последнее время, - она усмехнулась, - не очень-то жаловал нас вниманием. Может быть, ты и Гербер… ну…. Может, у вас близкие отношения…
- Да что вы, Викторина Серафимовна! – ошеломлено распрямился Климов. – В своем ли уме!?
Тогда и прозвучало впервые страшное слово «суд» и нелепое, немыслимое, невозможное в тот момент, в следующий оно уже стало перспективой, почти реальностью. Потом он пошел по остальным. Оказалось, что Гербер, несмотря на свой ранний отъезд, успела оставить для размышлений довольно много информации, и от разговора к разговору перед ним со всей очевидностью вставали подобности вчерашнего. Как ни странно, неопределенней всех высказывался его сосед по номеру, Никита, заведующий промышленным отделом, тем самым, где еще недавно цвел-процветал Климов, пока его не взяли наверх:
- Не знаю, я ничего не слышал, я спал. - Никита растерянно смотрел на Климова, похоже, искренне стараясь вызволить из себя что-то в его защиту:
- А потом.. да… Мне почудился голос. Или приснилось… не знаю. Я открыл глаз, глянул – тебя нет. Вышел в коридор, тихо, темно, и мне показалось, что ты там стоишь. У номера, где Гербер. Я сказал: «Егор, ты?» И все. Я вернулся и лег. Понимаешь, старик, мне показалось, что я там лишний… А потом ты вошел и рухнул на постель. И вдруг Аська врывается. То есть не дальше дверей. И орет: «Ну, Климов, так тебе это не пройдет!»
- А я что? – потерянно спросил Климов.
- А ты, старик, уже вырубился. Тебя и пушка не разбудила бы…
Итак, его обвиняли в попытке изнасилования и физической расправе. Многого он мог ожидать от себя, но только не этого. Это не лезло ни в какие ворота. Гербер, одна из самых неказистых женщин редакции. Мать двоих детей. Да, он ее недолюбливал – на летучках ему не раз доставалось от нее за «канцеляризмы и суконный язык»… Попробовала бы сама наводить глянец на заводские темы. Может, по пьянке решил поквитаться? Но чтобы изнасиловать…
Воистину, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Неужели дело пахнет тюрьмой? Нет, это уж слишком. Это несправедливо. Он был просто пьян. В стельку. Зачем он с ними поехал? Не надо было ехать… Еще позавчера, потаскавшись всей гопой по чужому пустынному городишке и вернувшись в отель, он с тоскою подумал о дочке и жене, о том, что сидел бы сейчас покойно в кресле, держал бы дочку на коленях и, вдыхая родной запах ее макушки, смотрел бы с ней по телику «Спокойной ночи, малыши». И сердце сжималось от нежности к ним – его «девчонкам», которые так беззащитны без него. Как он без них. Ох, кретин, идиот… Не надо было ехать. Как чувствовал. Ведь чувствовал же что-то… ведь свое правило нарушил – никогда не лезть в чужую парадигму, ибо там неизвестность. Он привык только к проверенным ходам. Да разве отвяжешься… Оба они, как Кот Базилио и Лиса Алиса, с телефона не слезали. «А как же дружба? А традиции? Зазнаваться начал?» Только этим и проняли. Во имя этой самой дружбы он теперь и горит, как швед под Полтавой. Что же делать, бог ты мой, что же ему делать? Работа и семья – две его ипостаси, два главных домика его жизни, теперь могли развалиться от одного дуновения этой Гербер. В семье еще можно было покаяться, в семье поверили бы ему в конце концов, он ведь только правду скажет, только то, что помнит, за что и готов отвечать. Но на службе… кому там нужна его правда. Достаточно звонка или какой-то бумажки – и все. Гербер ведь тоже партийная.
Со службой было темно и страшно.
На дневном поезде он вернулся, доехал на автобусе до своего дома, подходя к парадной, глянул наверх – над перилами балкона гнулись, метались по ветру и дождю отцветшие, полусухие стебли цветов, и ему показалось, что это все, что осталось от его семьи. Как будто уже прошло пять тюремных лет, и никто его больше не ждет. На глаза набежала едкая влага. Он сжал челюсти и зажмурился, как от боли. А, чушь собачья! Нет, на то они и близкие, родные, чтобы понять все. Понять и простить. Больше никто не поймет.
На лифте не поехал. Показалось, что не готов еще, чтобы взглянуть Гале в лицо. Пошел медленно по лестнице. Сверху – хлопок двери и чьи-то шаги. Сердце упало – Галя. В магазин… Не Галя. Соседка из квартиры напротив. Поздоровался. Как дела? Все в порядке. Что-то вас не видно последнее время. Работа – бодро и многозначительно сказал он. А…- еще многозначительней ответила соседка, намекая, что видела, как он садится по утрам в черную «волгу» с шофером. А ваши только что с прогулки вернулись. Видела их. Галина сказала, что только завтра приедете. Вот сюрприз… Да, - ответил он, - сюрприз. И почему-то подумал по-французски: «Le grand surprise».
До суда тогда не дошло – откупился всеми своими сбережениями. Хотя и пришлось уйти по собственному желанию. Да бог с ним, с обкомом… Какой из него, журналюги, партийный чиновник… Телевидение тоже, конечно, не сахар, весь день как чумной, но это все-таки лучше, чем ничего, да и заработки вполне. Все забылось, все простилось, все в конце концов устаканилось, - и в семье, и вообще. Даже в нем самом. Только вот не забыть то свидание с мужем Гербер. Сама она стояла поодаль и смотрела, как этот хилятик, взяв деньги, три раза съездил ему по физиономии своей вялой ладошкой… И Климов, дюжий мужик, в два раза больше этого сморчка, должен был только молча утереться.
Все он забыл и всех простил, даже некогда родную газету, которая так его подставила, но не забыть ему те три жалкие пощечины. И как вспомнит о них, так и застонет.
1985
|
Смерть соседки Кустов воспринял поначалу просто как событие, нарушившее намеченный распорядок дня - в квартире этой он давно не жил, после свадьбы снимал с женой комнату в центре города – и теперь, сидя в непривычной тишине и поглядывая на дверь, даже ругал себя, что заехал к своим, но когда пришла его сестра, и он, нарочито сохраняя спокойствие на лице, сказал ей, что умерла Дарья Тимофеевна, ему вдруг стало не по себе. Не смерть даже, а то, как сестра восприняла известие о смерти, поразило Кустова, и он наконец осознал произошедшее. Она ничего особенно не сделала – просто зажала рот рукой, как бы сдержав крик, съежилась и, словно объясняя себе что-то, уговаривая себя, все повторяла: «Да, да, это так – я понимаю». И тут он устыдился своего упрямо-равнодушного спокойствия, на котором сознательно настаивал. Их мать снова вышла от соседей, и по лицу ее Кустов старался угадать, как там… А потом, когда стало можно, он с сестрой сам прошел в комнату соседей и то, что увидел, ударило его по глазам. То, что увидел он, не было Дарьей Тимофеевной. Он никогда бы не признал ее в этом маленьком теле подростка, обозначенном под одеялом только ступнями да острыми коленками, и лица ее не признал бы в этой измученно запрокинутой восковой маске. - Какая она красивая, - подавленно прошептал Кустов, пытаясь унять внезапную дрожь. - Какая бабушка красивая, - повторила сестра, только громче, чтобы все слышали, но Кустов уловив в этом повторении какую-то фальшь, поморщился и прошептал: «Не надо…», чувствуя однако благодарность сестре за то, что она оценила его замечание, и одновременно стыдясь этого чувства, как бы мешавшего испытывать что-то гораздо более важное. В комнате были дети, внуки Дарьи Тимофеевны, девочка и мальчик – они испуганно сидели на диване в темном углу, рядом с ними, прикрыв рукой глаза, сидел сам хозяин, а жена его, дочь умершей, горбилась у ее кровати, поправляла подушку, край одеяла, из глаз бежали слезы, и, гладя худенькую ручку покойницы, она изумленно повторяла снова и снова: «Тепленькая такая, будто спит. Господи, ну почему она такая тепленькая»… Позже она рассказала, как Дарья Тимофеевна очнулась в свою последнюю предсмертную минуту, стала подниматься, позвала: «Зина, Зина!», а потом задышала – « так часто-часто задышала» - Зинаида изобразила, как - «и все» - и Зинаида снова принималась плакать. На похороны Кустов не поехал, и жене своей не разрешил увидеть мертвую – жена была беременна – а слышал только от матери и от Зинаиды, как ездили в морг, как долго искали ее среди прочих покойников, как она изменилась за два дня, и как на нее теперь страшно было смотреть. Похоронили ее на сельском кладбище, в часе езды от города, на пригорке, где было сухо, солнечно, и оттуда открывался вид на деревню, в которой шестьдесят три года назад родилась Дарья Тимофеевна. Поначалу Кустов испытывал что-то вроде вины из-за того, что не поехал, и говорил себе, что обязательно съездит на могилу – в солнечный светлый день, в день радостный, с пением птиц, с шелестом деревьев – но на могилу так и не съездил, и легкий осадок, оставшийся на душе, не мешал ему. Что он знал о ней? Почти ничего – вернее, не намного больше того, что знал пятнадцать лет назад, когда его семья получила комнату в этой квартире. Кустов помнил, как на кухне стояли она, уже старуха, и дочь ее; она держала на руках своего грудного внука, завернутого в несвежие пеленки, который потом стал высоким болезненным мальчиком, боявшимся даже днем пустых лестничных маршей, и она всегда выходила на лестничную площадку, подавая голос, пока он поспешно сбегал вниз, в школу, - она стояла на кухне и смотрела на них, таких вежливых и городских, смотрела настороженно или испуганно, или с неприязнью, - во всяком случае, так Кустов понял тогда этот взгляд. Потом еще он слышал две-три истории, связанные с ней. Вместе с дочерью она перенесла блокаду Ленинграда: однажды от брата ее – он был в ополчении - пришла передача, целая булка, и они не могли разрезать ее, а когда разрубили, из нее как из старого гриба дождевика только зеленый дым пошел. В войну на фронте у нее, кроме брата, погибли два сына и муж. Когда семья Кустовых поселилась в этой квартире, Дарья Тимофеевна еще работала, и, узнав, что она контролер в кинотеатре «Баррикада» на Невском проспекте, он обрадовался, словно теперь мог хоть каждый день бесплатно ходить в кино. Но за все эти годы, пока она еще стояла на контроле, только однажды он застал ее и, покраснев, молча протянул два билета – с ним была его девушка… От тамошних сквозняков у нее болели ноги, и она с трудом дотянула до пенсии. Она была тихой, вечно занятой старухой и в жизнь Кустова вмешалась только однажды – ему было тогда лет тринадцать, а сестре его десять, и они поссорились, а потом подрались, вернее, Кустов ударил сестру, несильно, но обидно, и она заплакала громко и надолго, и Кустов, возмущенный очевидным притворством сестры, хватал ее за руки и орал: «Замолчи!», а она только пуще плакала – и тогда в их закрытую дверь постучала Дарья Тимофеевна, постучала робко, деликатно, и раздался голос ее, тоже деликатный, разве что встревоженный: «Машенька, иди к нам», - и ничего больше, только это «Машенька, иди к нам». А еще он слышал, как она утешала его сестру, - у той в школьной раздевалке украли большой красивый, только что купленный платок. «Ну что ты плачешь, Машенька, – говорила она, - незачем тебе плакать. Когда бы это ты украла – вот где плакать надо. А тебе так незачем». Внуки росли и ей приходилось читать им. Читала она с трудом, почти по складам, и оттого голос ее звучал монотонно – дети начинали зевать и вырывали книжку, а она сердилась. Но когда внучку записали в детсадовский кружок английского языка, то уже и сердиться она не имела права, только раз, не выдержав, с вызовом спросила Кустова: «Ну, а вот чайник взять… Как по-ихнему, по-английскому будет?» и, услышав ответ, неодобрительно пожала плечами: « ЧуднО. У нас понятно – чайник он и есть чайник. А у них какой-то акетал». Она была верующей, у нее были две иконы, оставшиеся ей после матери, и Зинаида терпела их, пока дети были еще маленькими, но когда они пошли в школу, Зинаида вынесла иконы из комнаты, и Дарье Тимофеевне пришлось держать их на кухне, на полке за банками с зелеными перьями репчатого лука. Кустов ни разу не видел, чтобы она молилась, но когда иконы пропали – это зять, хозяин, напившись, то ли продал, то ли выбросил их – Дарья Тимофеевна потеряла голову: рыдала, на коленях умоляла его вернуть их, из дому убегала. Хозяин был фигурой примечательной. Выше среднего роста с плоской сильной фигурой, смуглолицый, с шапкой курчавых волос, под нулевку выстриженных вокруг ушей, он мог бы сойти за красивого мужика, если бы не злые ноздри чуть приплюснутого прямого носа и не глаза. Какие у него глаза, сказать было трудно, поскольку они всегда смотрели в сторону, будто знали что-то свое, никому не доступное и хотели это скрыть. Выходя на кухню, он всегда был напряженно оживлен и, завидев Кустова, - мальчика, подростка, юношу – говорил одно и тоже: « Ну, как у нас дела?» и, если Кустов мешкал с ответом, то сам и отвечал: «В порядке! – и добавлял: – Так-то, брат». Он был, что называется, мастер на все руки – делал он все быстро, стремительно, словно его скрытое нервное беспокойство не позволяло хоть на минуту замедлить движение, задуматься, и осознание себя мастером сообщало ему чувство превосходства над окружающими. Придя домой и наскоро пообедав – ел он на кухне, сидя на самом краю стула, и то и дело поглядывая в окно, как обычно едят на вокзале,– он устремлялся к себе в комнату. У него была одна страсть – он мастерил аккордеоны. И не из каких-то там заготовок, а – начиная с нуля. Все своими собственными руками, не считая, разумеется, исходных материалов На кухне в миске с водой разогревался столярный клей, а из комнаты доносились запах ацетона и вялые звуки, извлекаемые словно из губной гармошки, - это сосед настраивал металлические языки … Потом появлялся сам аккордеон, огромный, пахнущий клеем, деревом, дерматином, целлулоидом, постукивающий клавишами, кнопками, щелкающий регистрами, которых было явно больше, чем на заводских моделях. У соседа был абсолютный музыкальный слух, но музыку он не любил, не понимал и на вечеринках в компании гостей исполнял на своем мощноголосом инструменте одну лишь русскую «Барыню»… Затем музыка смолкала, и это означало, что очередное его творение выгодно продано, и пора приниматься за новое… А потом вышел какой-то закон, приравнявший кустарей-одиночек к спекулянтам, и с аккордеонами было навсегда покончено – их заменил фотоаппарат. Но была еще одна страсть, а точнее – беда, которая после запрета на аккордеоны, все чаще обрушивалась на семью. Сосед пил, а напившись, становился безумен – нет, даже не безумен, - становился таким, каким, хоронясь от всех, жил внутри. Тогда, приходя домой, он неслышно открывал ключом наружную дверь и, держа перед собой этот ключ как пистолет, выкручивал в прихожей пробки на электрическом щите. После этого он бросался к общему, стоявшему в коридоре телефону, набирал три-четыре цифры и, пренебрегая гудками, говорил в трубку отрывистым, смятым водкой голосом о том, что обнаружен труп, и чтобы немедленно выслали машину… Он говорил «они» и «мы» и еще, загадочно озираясь, он говорил «посмотрим»… Кончалось же это почти всегда одинаково - криками за соседской дверью, плачем и грохотом мебели. Справиться с ним могла только мать Кустова, и сосед ненавидел, боялся и уважал ее, когда она, единственная, соглашалась верить, что есть «они» и «мы», и что надо выполнить задание, - она вступала в игру, и тогда он не выдерживал и, пролив злую слезу, закрывал лицо руками и говорил, что его выгнали, выбросили... Но и это тоже было неправдой, а что было правдой, не знал никто, потому что он был человеком без прошлого. «А ну-ка пойдем посмотрим», - звал он Кустова спустя дня два после очередной нервотрепки, стремительно появляясь из комн
...
Читать дальше »
|
Опыт одного расследования из советских времен Письма было два. Одно в "Литературную газету", другое, тоже скорее письмо, а не заявление, в районный суд, Первое написали его родственники, второе - он сам. Оба о его бывшей жене. «Нас глубоко волнует судьба человека, который по состоянию здоровья и складу характера не может себя защитить» — писали его родные. «Почему она так бесчеловечно поступила»? - было во втором. Это он написал в сентябре прошлого года, суд разведет их в ноябре, а в мае этого года его родня напишет: «Необходимо остановить, прекратить моральный садизм, угрозы физической расправы над больным человеком. И убийство физическое не исключено...." Петр Сизов, 1944 года рождения, инвалид второй группы. У него туберкулез с полным распадом правого легкого и целый набор сопутствующих болезней. Детство прошло в больницах и санаториях, где он переболел туберкулезным менингитом. Окончил заочно семилетку, затем профессионально-техническое училище, получил специальность мастера пошива мужской одежды. Как пишут родные : «У него обнаружился вкус художника и золотые руки труженика». - Вы бы видели его первый дипломный костюм, - рассказывал мне его старший брат Арсений, - он на меня шил. Только я не скоро его надел - костюм этот с выставки на выставку ходил». - А как Петя учиться хотел, - говорила мне по телефону одна из его старших сестер Анфиса. - Ему не разрешали быть с детьми, ходить в школу. Помню, младший брат Костя закапризничал: «у... эта противная школа». А Петя ему: «Какой ты счастливый... ты можешь услышать школьный звонок". Учительница, у которой он заочно учился, специально для него устроила последний звонок... 1965 году у Петра образовалась своя семья. Через два года родилась дочь Таня. А еще спустя несколько месяцев его первая жена Катерина подала в суд на развод. "Семья распалась из-за болезни Петра, - пишут родные, - но между Петром, Катериной и дочерью остались доброжелательные отношения. Сейчас у Кати другая семья. Две дочери". "В январе 1970 г. в госпитале инвалидов Отечественной войны - читаю письмо в Литературку, - Петра готовили к операции по удалению легкого. Отказало сердце, операцию сделать не удалось. В это время рядом с ним оказалась Каюрова Татьяна. Участие этой красивой девушки, доброта, нежность придавали огромную жизненную силу Петру. Познакомились они незадолго до этого в только что открывшемся Доме мод на Петроградской, куда пришли работать. В апреле, когда Петр был в больнице,Татьяна встретилась с его родственниками в объявила об их с Петром решении стать супругами. "Ей внушали, - пишут родные, - что Петя серьезно болен, жить с больным человеком очень трудно... что если не получится у них жизнь, ему не пережить вторую потерю. Она твердо и решительно, железным голосом заявила: «Хотя бы год-два, но мы будем самыми счастливыми на свете! Я надеюсь, что мы доживем до золотой свадьбы". В июле они стали мужем и женой. Из того же письма: «Это была счастливая, любящая, дружная семья". - Они жили красиво, - рассказывала Анфиса.- При ней Петр прямо расцвел. Мы ее все обожествляли, чуть не сажали в красный угол. Нам, глядя на них, и самим хотелось жить красивее. Я даже по Тане в чем-то равнялась. Бывало, бежишь по магазин — какой бы сделать Тане подарок. Как купишь ей что-нибудь ценное, она кружится по комнате, улыбается, прыгнет на диван, бросится мне на шею, целует... Ну как тут не подарить! Только муж, вот он тут как раз сидит, слышит наш разговор, тогда же и сказал: «Подождите, этот цветочек еще даст плоды. Вы ее еще узнаете, это не маленький хищник, это большая хищница". Дальнейшее, по словам родственников и самого Петра, непонятно и страшно. Из прекрасной любящей жены Татьяна превращается в ту самую большую хищницу, которую в ней пророчески разглядел десять лет назад муж Анфисы. "В январе 1980 года она заявляет Петру: "Тебе осталось жить год-два, Я не хочу оставаться одинокой. У меня есть возможность устроить свое будущее. Доживай свой век, как умеешь. Я от тебя ухожу». "Разрыв с любимой женой: для Петра был трагедией, резко ухудшившей его здоровье. Он умолял ее вернуться, просил еще раз подумать. С января по сентябрь 1980 г. врачи боролись за его жизнь". "Право на счастье, - святое для каждого, - продолжают родные. -Не смогла Таня жить с больным Петром... это понятно. Не понятны ее поступки. С января 1980 года дома не живет. Заходит на 15-20 минут с новыми друзьями. Цель - унизить, оскорбить, раздавить, морально, учинить скандал, прихватить что-нибудь из вещей и уйти. Вместо приветствия вопрос: "Ты еще не умер? Доведу - сдохнешь! Или посажу, сам сгниешь!"У нее всегда под рукой помощники, свидетели, а если понадобится - защитники разных рангов." Чтобы читателям было понятно дальнейшее, я вынужден хотя бы вкратце пересказать еще несколько страниц этого документа. 18 июня в сопровождении "личной охраны" Татьяна производит очередное посещение дома. Оскорбляет и унижает мужа, доводит его до легочного кровотечения. В ночь на 19 июня неотложная помощь увозит Петра в больницу, где он находится до сентября. Воспользовавшись его отсутствием, Татьяна вывозит вещи ( сервиз, магнитофон, книги и т.д.). Выйдя из больницы, Петр пытается подать заявление в милицию, но таковое не принимают, так как нет развода и судебного раздела имущества. Для ведения дела о разводе стороны приглашают адвокатов., Татьяна ищет свидетелей для показаний против Петра («дебошир, развратник, пьяница»), пробует подкупить первую жену Петра Катерину, делает запрос в туберкулезный диспансер, чтобы доказать суду, что Петр - симулянт. и тунеядец. Суд разводит их, но на этом не кончаются беды Петра. Борьба разгорается с новой силой, теперь уже за квартиру, однокомнатную, кооперативную, размен которой запрещен тубдиспансером, но которая оформлена на имя Татьяны. «Татьяна выбрала путь насилия: "Квартира - моя личная собственность! Убирайся куда хочешь! Квартиру освободи. Любыми способами я добьюсь, что ты жить здесь не будешь! Ты уже в яме - осталось тебя только зарыть!" В марте 1981 года, года, когда Петр снова лежал в больнице, Татьяна при свидетелях взламывает дверь, и у Петра пропадает из квартиры 500 рублей и отрез вельвета, парфюмерия и косметика на Восьмое марта сестрам и женам братьев. И опять ни участковый инспектор, ни председатель ЖСК не рассматривают жалобу Петра, ссылаясь на то. что Татьяна здесь прописана. После телефонного разговора с Анфисой - «Не знаю, то ли я вам говорю?" - время от времени спохватывалась она - я поехал к Петру. Дверь открыл невысокий худощавый мужчина без обуви, в носках, с крепким загорелым лицом. Это был Арсений. - Петра вчера вечером увезли на скорой помощи. Опять легочное кровотечение. - В его неторопливом голосе была растерянность. - Анфиса недавно звонила, "езжайте, говорит, немедленно, корреспондента встретьте." Вот мы с Женей прямо сюда. Из комнаты вышла Женя, сестра, поздоровалась: - Проходите, проходите... Да не надо снимать туфли Сама же, как и Арсений, была без обуви - привычка человека, выросшего в деревне. Оба они, невысокие, коренастые, побитые ранними морщинами, в простой одежде казались только что приехавшими из глубинки. - Вчера увезли, - вздохнула Женя. - Полная трехлитровая банка кровавой пены. Ему было так плохо, уже идти не мог. Повис на наших руках, голова мотается: "Женя, я плыву..."Петя, он такой беззащитный... Когда Татьяна уходила, он говорит ей: "Бери все, что хочешь, только оставь меня в покое. Дай мне дожить свою жизнь". - Она всхлипнула, прижимая ладонь ко рту, потом сделала глубокий вдох и продолжала: - Мы всегда очень дружно жили, и родители наши были дружные. Мама после освобождения партизанского края восстанавливала колхозы с пятью детьми, Петя грудной на руках. Ее избирали районным депутатом, народным заседателем. А отца ее, деда нашего, немцы живьем сожгли за связь с партизанами. Так и сказал им: "Одна у меня родина, а она не продается».... По совету Анфисы я прошу показать мне слайды. И вот мы сидим и смотрим на экранчике то, что было жи знью Петра и Татьяны, и что непоправимо распалось, разлетелось в пыль и кровь.. Петра я представлял себе другим. Словно уловив это, Арсений поясняет: - Он вообще-то внешне не очень похож на больного. Он такой плотный, даже немножко толстый, но это сердце, вы понимаете... Сердечники всегда такие... - А вот папочка наш, - дрогнувшим голосом говорит Женя. Отец их умер год назад. Снимки, снимки, в деревне, за городом, на юге. Зеленая, в белом легком кружеве черноморская волна. Я говорю, что слайды сняты со вкусом, опытной рукой. - Это все Петя, - говорит Арсений. - Он умеет и вышивать, и вязать. В детстве играл на аккордеоне. Татьяна, она мне не показалась красивой. Вот она у машины, вот в купальнике в воде, вот на берегу с неправдоподобно желтым мохнатым цветком в руке. Нигде она не улыбается. Смуглое лицо с чуть азиатскими скулами строго и замкнуто - так она смотрит на человека, который ее снимает. - Она мне не кажется красивой, - говорю я. - Нет, она красивая, - в один голос отвечают мне брат и сестра. Вспоминаю слова Анфисы: «Когда будете встречаться, обратите внимание на ее глаза. У нее умные, холодные глаза; которые внимательно следят за собеседником. Ни одной вашей реакции она не упустит из виду». Прощу еще раз показать слайд, где Татьяна перед машиной. Анфиса мне говорила: «Машина явилась ступенькой, через которую она перешагнула и стала выше человечества. Когда она садится за руль, она просто преображается - столько гордости, кокетства..." А в письме есть еще и такие подробности: "С каждым годом росло благосостояние их семьи. У них появились дорогие вещи, модная одежда, обувь. Татьяна переходит на французскую парфюмерию. Ко всем, кто хуже одет, меньше имеет, она стала относиться высокомерно и презрительно. Все эти перемены в ней развивалис
...
Читать дальше »
|
|
Если говорить о тех, кого он действительно чуть не убил в реальной жизни, пусть нечаянно, по неосмотрительности и молодому эгоизму, так это прежде всего преподавательницу английского языка Тамару Владимировну. Ему было двадцать два, а ей двадцать четыре года, и так получилось , что университетская учительница влюбилась в своего студента, и он, заметив это, решил не упускать шанса… Тогда он вообще редко что упускал. Она жила в коммунальной квартире вместе с матушкой, отца не помнила, в школе была отличницей, а университет кончила с красным дипломом и после аспирантуры преподавала язык вот таким, как он, филологическим охламонам. Ее матушка тоже была учительницей, только в школе, и Алексей не очень удивился, когда узнал, что его новая пассия еще девственница. Понятно – сплошная учеба, не до жизни… И в один прекрасный день, когда ее матушка была в санатории, он после занятий приехал к ней, и по взаимному согласию они легли в постель с совершенно определенной целью.
Впрочем, полноценный секс у них не получился: то ли Алексей поторопился и приступил к делу без подобающих предварительных ласк, хотя, если честно, ему это и не позволили, по неопытности сочтя за разврат, то ли партнерша слишком нервничала, но секс был остановлен после первого и единственного вторжения. Возможно, Тамара решила, что таково и есть соитие, или же ей было слишком больно, хотя она не выказала своих чувств, но после первого же контакта она молча встала, запахнула халатик и отправилась в ванную, а Алексей остался лежать, довольствуясь тем, что произошло, и обтер бумажной салфеткой несколько капель крови на своем естестве.
На том их свидание и закончилось, а наутро Тамара позвонила ему по телефону и сказала, что у нее кровотечение.
– Ну, вообще это нормально, – успокоил он ее, хотя никто из тех, кого он лишал девственности, не говорил ему о таких последствиях. И на всякий случай добавил:
– Сходи к гинекологу.
Вечером она позвонила ему и сказала, что гинеколог не нашел ничего необычного, кроме порванной плевы, и только прописал ей кровоостанавливающие таблетки.
– Ну и хорошо, – сказал Алексей, чувствуя однако отдаленную смутную тревогу, словно недоступный слуху низкочастотный инфразвук.
На следующий день Алексей поехал к ней, потому что она продолжала лежать, а кровотечение не прекращалось. Он сходил за продуктами в магазин, сготовил ей еду на кухне под вопросительными взглядами соседок, и пока она пыталась есть, с трудом повернувшись набок, наклонившись над стулом перед кроватью, на который он поставил ей тарелку с макаронами и вареной сарделькой, он подумал, что такова и есть супружеская жизнь, жизнь вдвоем, где, кроме быта, убивающего любовное чувства, ничего больше нет. А чувство его было действительно уже убито, и если он находился рядом с ней, то только из понимания своей ответственности. А ведь начиналось все так хорошо, как всегда, когда к сердцу подкатывала волна новой влюбленности, заставлявшей о многом мечтать, и прежде всего о телесных радостях… Остальное – в виде общих интересов, разговоров о том, что им обоим близко, – все это было бесплатным приложением… А можно было и без приложения – лишь бы секс был качественным и полноценным. Но вот незадача – несчастный случай – и все покатилось не туда, совсем не в ту сторону. Еще два дня он приезжал ухаживать за больной, но Тамаре становилось все хуже, от потери крови у нее стала кружиться голова и возникли позывы к рвоте, затем из санатория вернулась мать, видно, ее вызвали по просьбе дочери. Мать, похоже, догадывалась о произошедшем: соседи доложили ей, как дочь бегала в ванную в одном халатике, однако ему она ничего не сказала, только обвела горестным взглядом, и как раз в тот визит Алексея Тамару и увезли на «Скорой помощи»… Когда ее опускали на носилки, ее вырвало…
Спустя две недели он узнал, что в больнице хирург нашел у нее шесть разрывов влагалища. Видимо, было сказано Тамаре, ее партнер слишком поторопился и не учел свои размеры… Какие размеры? Размеры у него были самые обычные… Однако в телефонном голосе Тамары он не услышал ни осуждения, ни укора, разве что сдержанное восхищение обладателем столь мощного оружия.
Выйдя из больницы, Тамара была полна надежд на продолжение их отношений – улыбалась ему, любила держать его руку в своей, глаза ее наполнялись теплом, когда она обращалась к нему, а он – он больше ничего к ней не испытывал, кроме вины, которую каким-то образом надо было загладить. Когда швы были наконец сняты и хирург сказал, что теперь Тамаре можно заниматься сексом, только поаккуратнее, Алексей снова оказался в ее постели, на сей раз был предельно осторожен, и Тамара сказала, что теперь она понимает, какое это чудо, когда в тебя входит мужчина. Алексею в ней было тесно, дискомфортно, почти больно, и он не понимал, почему теперь не больно ей, и, кончив мимо нее, в заготовленное полотенце, он чуть не плакал от того, во что превратились его упования. Больше секса между ними не было, хотя прошли еще месяцы, прежде чем Тамара осознала, что Алексею она в тягость.
Потом она вышла замуж, у нее родились два сына, потом, случайно встретившись с ней в Университете, куда Алексей иногда заглядывал, он с удивлением услышал ее презрительный отзыв о собственном муже, потом она развелась, потом, уже пенсионером, он увидел ее на все той же кафедре – усохшую старушку, с лицом, во всех направлениях исполосованным глубокими морщинами.
– Тебя еще можно узнать, – усмехнулась она, проходя мимо, поскольку была не одна.
|
|
Роясь в своих архивах, пусть поэт и не советовал их заводить, я надыбал этот перевод, сделанный мною некогда по просьбе моего сокурсника по ЛГУ В. Топорова для сборника стихотворений Одена, вышедшего потом в питерском издательстве «Евразия» (1997). Сборника я не видел и полагаю, мой перевод туда не попал. Но что-то меня в этом стихотворении зацепило, какой-то фолкнеровский масштаб, и вот – публикую.
Уистон Хью Оден (1907-1973)
А что там гремит?
А что там в долине гремит, не смолкая,
Как будто бы грома раскаты?
А это солдаты идут, дорогая,
В красном во всем солдаты.
А что это там полыхает, сверкая,
Да так, что по телу мурашки?
А это солнце, моя дорогая,
Солнце на пиках и шашках.
А что это там за повозки? Какая
Нужда погнала их в дорогу?
А это маневры, моя дорогая,
Иль протрубили тревогу.
А что ж повернули у самого края
Долины? Куда нам деваться?
Должно быть, получен приказ, дорогая.
Но что тебе их бояться?
А что же не встанут, убитых считая,
На раны бинты не наложат?
Потерь, должно быть, нет, дорогая,
Не ранен никто, быть может.
А, пастор им нужен, грива седая,
К нему ли стучатся в ворота?
Они скачут мимо, моя дорогая,
Другого ищут кого-то.
А, стало быть, фермера, так полагаю.
Сосед наш – хитрец и притвора…
Они не зашли к нему, дорогая,
А к нам спешат вдоль забора.
Куда ты? Неужто останусь одна я?
Что стоят твои заклинанья?
Я клялся в любви тебе, дорогая,
Но вышло нам расставанье.
Ах, взломаны двери, разбиты замки,
Оплачьте судьбу мою вдовью.
Все ближе и ближе стучат сапоги,
Глаза налиты черной кровью.
(Опубликован в "Сетевой Словесности" - 08.05.2005).
|
Из история Советска 22 октября 1944 года 2-я гвардейская армия, преследуя отступающего противника, вышла на северный берег реки Неман в районе Тильзита. И только 20 января 1945 года Тильзит был полностью очищен от немецко-фашистских войск. После ожесточенных боев в городе осталось только 25% жилого фонда, да и тот требовал ремонта. 7 сентября 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город получил новое название – Советск и стал вторым по значимости после областного центра. С 1946 по 1953 года в Советск переселились 2336 семей. Из хроники Советска Многие жители улицы Тургенева всю прошлую неделю пребывали в недоумении. Из окон своих квартир местные жители перестали видеть зеленые кроны, а несмолкающий рев бензопил явно свидетельствовал о том, что на улице производится валка деревьев. Столь массовая вырубка, которой город не видел уже давно, связана с запланированными ремонтными работами. Работники Неманского «Райавтодора», который и стал подрядчиком нынешнего ремонта, каждый день выслушивают жалобы и проклятья жителей улицы. 15.06.2010 С улиц Советска пропадают канализационные люки. Искатели черного лома, которые раньше промышляли лишь по окраинам и от чьих рук в основном страдали дачники, теперь вышли в центр города. 19.09.2011 А в минувшие выходные 7 саженцев горной сосны бесследно исчезли с улицы Тургенева. 27.09.2011 Советчане не останутся в стороне от участия в акции «Миллион деревьев», которая запущена партией «Единая Россия» и стартовала 17 сентября, радостно рапортует пресс-служба городского округа. 1 октября, в единый день высадки деревьев, каждый житель Советска, желающий посадить свое дерево, сможет бесплатно получить саженцы ели у торгового центра «Вестер» и на центральном рынке. 30.09.2011 *** В 1977-м году я оказался в Калининграде на каком-то издательском симпозиуме. В первый день я смиренно сидел в зале и слушал доклады, на второй уже почти не слушал, а на третий неожиданно для самого себя оказался на автобусной станции, купил билет до Советска и поехал. Впрочем - ничего неожиданного. В Советске я провел два года детства. За два дня Калининград- Кенигсберг так надавил, что я покидал его с облегчением. Этот город с обрубленным прошлым был тихо безумен, как человек с отшибленной памятью. Не только на местах расчищенных руин, но и на кварталах новостройки, кое-где спустившихся к реке Преголя, лежала тень неизбытой катастрофы. Была весна, снег давно сошел, но деревья еще стояли голые. Могила Канта против ожидания оказалась не внутри, а снаружи кафедрального собора, от которого во время войны остались одни стены... А дорога показалась знакомой. Основательные каменные постройки, возникающие вдалеке среди полей, - белые под красной тяжелой черепицей - были точно из прошлого, пережитого в том числе и мною. В дороге я читал, поглядывая в окно, притворялся равнодушным, внушал себе, что ничего не найду, что поздно... И все же надеялся, что найду - будто вся минувшая с тех пор жизнь описала круг, и оставалось лишь сделать последнее усилие, чтобы настоящее пересекло исходную точку прошлого. Оттого, что волновался, я плохо запомнил подробности трехчасового пути. И города Советска, а на самом деле Тильзита, как бы не увидел, торопливо одолевая улицу за улицей к реке, в сторону которой мне махнули рукой. Значит так... сначала мост через реку, потом наш дом, а дальше каменное четырехэтажное здание ― именно такой планчик нарисовал мне тогда еще живой отец, после войны депутат городского совета Советска. На какой-то улице в стеклянной коробке обувного магазина я купил себе туфли, примерно те, что искал, тут же переобулся и, воодушевленный везением, почувствовал, что и дальше должно повезти. Много ли я помнил, чтобы найти дом, где мы жили после войны? ... Когда от дома мы с мамой сворачивали направо, то приходили на рынок, налево - к руинам, оставшимся после боев и тогда еще не разобранным... Я пересек старый сохранившийся центр города, удивившись его не отмеченному в памяти существованию и почувствовал, что я где-то недалеко от цели. Слева за строениями угадывалась река Неман, в которой я тонул в свои шесть лет... От центра вдоль реки шла лишь одна улица, застроенная новыми пятиэтажными домами. Их, видимо, только начали заселять и темные стекла чисто блестели в свежих деревянных рамах. Во дворах кое-где горбатился хлам прежних снесенных построек, поваленные заборы лежали как переломанные птичьи крылья. С нарастающей тревогой я обходил эти останки и вдруг замер на места. Передо мной меж двух боковых, еще не обрушенных стен лежали руины нашего дома, разбитого железной бабой экскаваторщика. Фасад упал целиком, навзничь - обломки кирпичей раскатились веером по брусчатке, оставив на ней алые кирпичные кляксы. Железная кровля накрыла как крышкой гроба бывшие наши комнаты, винтовую лестницу, две кафельные изразцовые печки... "Сад... за домом должен быть сад", - сказал я себе, еще надеясь, что ошибаюсь. Но нашелся и сад - из-за ограды торчало несколько чудом уцелевших среди этого разгрома деревьев. Вот и все. Я стоял перед нашим бывшим домом и мне было нехорошо. Вообще, что-то неправильное, темное было в том, что я рванулся сюда, и теперь я испытывал стыд - память о детстве была попрана, и винить в этом я мог лишь самого себя. Я еще раз в растерянности обошел руины и остановился перед грудой кирпичей. Какая же у нас была улица? Я помнил ее розоватый булыжник. А здесь темно-серая брусчатка. И рисунок круговой, будто мостили не улицу, а площадь... Не к рынку ли я пришел? Так же вдруг я осознал, что ошибся. Это не наш дом! Это не мог быть наш дом! Ну, конечно, - и стены другие, и кафель... Я пошел дальше, почти побежал по этой единственной улице, вытекавшей из центра города. Река была рядом, она дышала слева в проемы между кирпичными строениями. Кончался рабочий день, и навстречу мне из какой-то проходной выходили люди. Я глядел на них так, словно и они были из моего детства, были теми мальчишками на плоту, не добежав до которого по узкой подрагивающей доске, я свалился тогда в воду и утонул, но был вытащен и откачан... Вон знаменитая арка моста королевы Луизы ― мост строили еще в начале XX века... Улица спускалась и пустела, унылые обшарпанные дома стояли вдоль нее, и призрак удачи снова отступал. Все было хоть и старым, прежним, но чужим. Уже по инерции я шел дальше, чувствуя, как с каждым шагом все больше натирают ноги новые туфли... Шел и остановился. Передо мной был дом*. Пять высоких окон, слева дверь с маленьким крылечком, еще левее - арка ворот. Под ней рыли канаву солдаты, дальше голубел тяжелый четырехэтажный дом с надписью над входом "Дом офицеров". Вот я и пришел. Я стоял перед нашим домом. Это был он. Я его сразу узнал. Нельзя было не узнать! Но отчего так одиноко и печально? Все прошло и ушло. Детство... Какие-то бесконечно дорогие подробности его... Зачем я сюда пришел? Меня стала бить дрожь. Казалось, невозможно войти во двор, в дом... И все же я себя заставил. Возле дома в сумеречном свете маячила кряжистая женская фигура в телогрейке. Я окликнул и неверными шагами с извиняющейся улыбкой подошел. На меня смотрела женщина пятидесяти лет - без предубеждения и вражды, но и без любопытства. - Простите, вы давно здесь живете? - спросил я. Вопрос мне самому показался нелепым и, запинаясь, я продолжал: - Дело в том, что я сам здесь жил, очень давно в сорок седьмом году... Вот... приехал на места своего детства... - А... - сказала женщина, осознав наконец услышанное, - живу? Да давно. С пятидесятого года как мы сюда приехали. - Так, стало быть, вы не знаете, кто тут до вас жил. Может, слышали? - Да жил майор какой-то. - Майор? Мой отец был тогда подполковник. - Не, майор - это точно. Мужа моего спросите, он знает. Так вы, стало быть, кого ищете? - Никого. Дело в том, что я просто жил здесь. Вот в командировку приехал, решил заглянуть. - А... - повторила женщина. - Ну проходите, проходите. Вот и муж мой, он знает. За спиной женщины, покачиваясь, возникла темная тщедушная фигура мужа. - О... о...чень приятно, - прошепелявила она. - Слышь, тут товарищ ищут майора, который до нас жил. Как звали его, а? - повернулась женщина к мужу, ничуть не удивляясь до крайности расплывчатому выражению на его лице. - Понимаете, - широко и дружелюбно улыбаясь, обратился я к нему, - я жил здесь в детстве... - А... жил... - промямлил муж, - ну, так... чего стоять? Пойдем? - и он подмигнул, обозначив правым бедром оттопыренный карман промасленной брезентухи. - Так ты не помнишь, Мить, как звали того майора? Митя поморщился и гримаса отторжения проползла наискось по его лицу. - Не помню, - довольно внятно произнес он наконец и снова подмигнул мне. - Ну так... кореш... пойдем... со свидань... ицем. - Нет, спасибо, - отказался я, выдавливая из себя мечтательно-романтическую улыбку, - я здесь похожу, посмотрю... Но чем-то я понравился Мите и тот, заупрямившись, ни за что не хотел идти в дом без меня. В какой-то момент я обнаружил себя наверху, на втором этаже в душной перегородке с оторванными бумажными обоями, завертывающимися у плинтусов, между столом и кроватью, накрытой мятым покрывалом. В ее никелированных набалдашниках отразился я сам, Митя и хозяйка с рюмками в руках, затем я вместе с ней снова оказался на дворе. Вечерело и становилось прохладно. Небо наливалось алой сукровицей и несчастный сад торчал во все стороны измученными зимней непогодью голыми ветками. Присмотревшись, я с ужасом обнаружил, что весь он перегорожен заборами, разбит на клетушки, забран проволочными сетками и больше походит на кладбище. - А вот тут, по-моему, было широкое крыльцо, - сглотнув, сказал я. - Верно, было, - подтвердила женщина - уже лет десять как его разобрали. Место занимало... Только небольша
...
Читать дальше »
|
… А потом вдруг среди тягомотной крутни собирают команду на старую заброшенную точку, с которой давно уже сняли за ненадобностью ракетную установку. И я среди них. Считаю, что мне повезло. Все-таки новые впечатления. Повод отвлечься от надсадной непроходящей муки и тяжести, то и дело, чуть останусь один, влажно и горячо приливающей к глазам. И вот открывается Север, совсем не такой, каким я его видел весь последний месяц, первый в моей солдатской жизни. Едем на «мазе». С его непривычно высокого борта далеко видно, и сам путь по дороге, вернее, по колее, продранной колесами по моховому настилу сопок, кажется опасным – из-за крутых поворотов, когда за очередной скалой – бесконечное чередование других скал и сопок… И высоко, и просторно, и тревожно, - всё вместе. В расщелинах между скалами, куда не задувает ветер, курчавятся заросли карликовых берез, «маз» надсадно воет, сотрясаясь, - он одолевает очередной подъем, все выше и выше по крутизне сопки… Кажется, сейчас сдадут тормоза – и все это горячее, напрягшееся, дымящее железо покатится вместе с нами к обрыву… Но вот подъем кончается – и с самой вершины открывается Кольская губа, со множеством торчащих из нее скал-островов, полуостровов. Они темно-серыми, а то почти черными изломанными плоскостями изрезали все пространство воды, а еще плывут там совсем крошечные отсюда кораблики – порой только по длинному, непропадающему следу можно догадаться об их присутствии… Вот и сам Полярный виден – горстка желтых, голубых и розовых домов, невзаправдашних, как и то, что я живу, служу там. Слева над дорогой нависает скала, в ее вертикальную стену влеплены темно-зеленые полосы мха, из трещин растут кустики берез и черники, - можно на ходу протянуть руку и набрать пригоршню ягод, темно-синих, лиловых, с испариной… Скала обрывается, и мы вдруг попадаем словно в южную пустыню - вдали ее обступили срезанные сверху сопки, здесь же – сухо, бело, выжжено. Только поодаль сине блестит озерцо. Проезжаем участок строящейся дороги. Солдат с плоским татарским лицом, раздетый по пояс, дробит пневматическим отбойным молотом каменный взлобок сопки. Сквозь рев «маза» слышен противный, какой-то зубной стук молота – камень все-таки. Солдат машинально поворачивает голову и без всякого выражения смотрит вслед нашей дымящей машине. Два других, тоже обнаженных по пояс, лежат у обочины, провожая нас глазами. Тарахтит дизель, тянутся шланги…в выдолбленные в породе дыры вставлены деревянные клинья… Вот так можно выровнять всего лишь какой-нибудь метр пути. Спуск, от которого холодит в животе, снова подъем – и снова работают дорожники. Рядом с колеей лежит, завалившись, трактор, изрыв вокруг себя землю, как умирающий зверь. Дальше пути нет: солдат-дорожник машет рукой в сторону – объезд. «Маз» сворачивает влево и набирает скорость, чтобы с ходу проглотить заболоченный участок. Даже здесь, на борту, чувствуется, какая под колесами влажная, рыхлая, ненадежная почва – в ней, покрытой губкой мха, остаются глубокие промятые колеи. Лепешки грязи летят в стороны, кузов подбрасывает так, что приходится привстать с лавки, чтобы ногами гасить эти дикие норовистые взбрыки. И снова начинается подъем. Дороги больше нет. Есть только относительно ровная поверхность сопки, уходящей вверх как пирамида. «Маз» осторожно взбирается по склону, делая аккуратные выверенные повороты влево и вправо, – ай да водитель! - вот уже и край сопки, и в каком-то метре от колес справа в долгом затяжном падении-полете синеет провал. Страшно даже глянуть в ту сторону. Вон как разбежались отсюда и все бегут вниз валуны, уступы да толпы березок, все вниз и вниз, к далеко синеющей водной глади. Воздух заметно холодеет – он кажется разреженным… я прикидываю, успею ли спрыгнуть влево, через борт, если задние колеса занесет… «Маз» вплотную прижимается к стене, так что выпрыгнуть теперь некуда, - от нее веет холодом и сыростью, в складках стиснутого камня – ржавые потеки воды. На краю обрыва качаются под ветром стебли травы, нежные цветы иван-чая… последний спасительный поворот – и вниз, и вниз…легко, спокойно – в надежное лоно низины, улегшейся между скал. Здесь нет ветра, здесь тихо, низина, словно гигантская чаша, полная свежего духа берез, нагретого мха, ягод, знакомого с детства запаха больших лесных полян, где столько грибов… «Маз» останавливается. Мы спрыгиваем с грузовика и разбредаемся в разные стороны - нас пятеро, без старшины и водителя, нас послали разбирать старую казарму на теперь никому не нужной заброшенной точке. Осматриваюсь вокруг. По скалам движутся тени от облаков. У дороги желтые пятна зарослей морошки. Она как малина - кулачки прижатых друг к другу сочных зерен. Собираю ягоды и ухожу от дороги все дальше. Меня окружает высокая трава, под ногами становится хлипко – сапоги блестят от воды. За низкими зарослями березок сгрудились валуны. Они навалились друг на друга, словно в схватке за место, за кусочек приглянувшейся земли, да так и застыли навсегда над ней, образовав небольшой, влажный, гулкий свод. Где-то рядом слышен звук падающей воды, голос маленького ручья, родника. Я внимательно разглядываю мох, расстилающийся под ногами. А… вот углубление… оно почти полностью затянуто зеленым, пышным и влажным одеялом мха. Это там бежит родник, оттуда его чистый глубокий тон. Просовываю в углубление руку, но так и не дотягиваюсь до воды. Рядом прыгает маленькая серо-коричневая лягушка. Останавливается и раздувает бока. Я ей не страшен. Возвращаюсь к валунам. Под их сводом в сумеречной прохладе стоит прозрачное озерцо. Таинственно, как в детстве. Кто здесь живет? Чьи это владения? Где хозяин? Ленточка водорослей поднимается с песчаного дна в мелких уложенных вокруг камешках. И рядом с ней растет, не достигая поверхности, подобие маленького деревца. Чей это подводный сад? Погружаю руки в воду – как чиста, как холодна и свежа она! – подношу в ладонях к лицу и опускаю его в эту, может быть, со дня творения никем не потревоженную влагу. Она проливается между пальцами – гулкий и сочный плеск оглашает эти маленькие своды – тут своя акустика, как в греческом амфитеатре. Здесь слышен и шепот… Иду обратно, к дороге. Из травы выглядывают палевые шляпки грибов. Срываю один, продравшийся на длинной упругой ножке сквозь толщу травяного дерна. Подосиновик. Он пахнет остро и знакомо, как в детстве. «Маза» на месте нет – он спустился еще дальше и стоит там, словно к чему-то прислушиваясь. Но вот оттуда раздаются гудки. Это, видно, зовут меня. Сорвав последнюю крупную ягоду морошки, я бегу к машине. Все уже сидят в кузове и ждут меня. Это шоферу велели подать сигнал. Старшина выглядывает из кабины и без раздражения и недовольства машет рукой, показывая на кузов, - пора! Мы едем дальше, а я все не могу опомниться, мне никак не проститься с тем сокровенным местом. Никогда в жизни я больше не буду там, и от сознания этого грустно, горько и радостно одновременно. И снова «маз» ползет вверх, отчаянно раскачиваясь кузовом на каменном бездорожье. И вот мы у цели. Слева – казарма. Она совсем еще нова на вид. Светло-розовая, ровно оштукатуренная, пустая и чистая. Как это она жила здесь в отсутствие рядового состава… Словно уже стала принадлежностью этих мест, их органической частью. Ей будет жаль с ними расставаться, как и мне. А рядом озеро – оно набралось в выемку между голых скал. Недалеко от берега из него торчит острый огромный камень, словно акулий плавник. Старшина разрешает выкупаться перед работой, да и в самом деле, на солнце чуть ли не печет. Двое из нас - я в том числе – раздеваются. Лезем в воду. Она оглушающе холодна, ведь где-то под ней вечная мерзлота. Камни скользят под ногами. В глубину пробираемся ползком. Я пробую плыть, хотя грудь стянута ледяным обручем, перехватывает дыхание… Я делаю несколько гребков и натыкаюсь рукой на подводный камень. Его край так остр, что рассекает мне ладонь. - Что? – с тревогой в голосе кричит с берега старшина. – Поранился? - Ничего, товарищ старшина, - отвечаю я. – Пустяки. Но плавать мне больше не хочется. Посасываю ладонь – разрез неглубокий, тонкий, как от лезвия бритвы – крови немного. - Работать-то сможешь? – спрашивает старшина. Это для него самое главное. - Конечно! – улыбаюсь я. Мы выбрасываем из кузова ломы и лопаты и принимаемся за дело. Мы раздираем казарму на составные части. Дерево, гвозди – они рычат, отдираясь друг от друга, скрежещут, стонут, подвывают, а мы не отступаем – ломом раз и раз, и на себя, и вбок, и еще вбок, и еще, и вместе, раз и раз – и целая секция, снаружи отштукатуренная (штукатурка кое-где осыпается – ничего, обмажем потом), а изнутри оклеенная моющимися обоями – целая секция, отделившись от стены, ухает на землю, поднимая розовую пыль. Мы разбираем казарму обдуманно, сохраняя ее несущий остов – так что она стоит до конца, становясь все сиротливей и неприглядней, изумленней и трагичней – зачем она теперь? Кому она такая? Ей не привыкнуть к своему новому облику… Мы перетаскиваем тяжелые секции, словно отдохнувшие на земле и пришедшие в себя после обморока, к «мазу» и сходу – одна за одной - погружаем в кузов. Старшина жадничает – ему, конечно, хочется увезти зараз побольше – хозяин… Мы наваливаем секции выше бортов. - Доедем? – спрашивает старшина водителя с сомнением и в то же время глазами, всем выражением лица ожидая, требуя, чтобы тот кивнул, и водитель – он служит уже третий год – кивает и улыбается: - Доедем, товарищ старшина. А мы-то как? Для нас и места не осталось… Мы садимся сверху. Так что теперь и вовсе высоко и жутковато. Но оттого еще веселее, бесшабашней, отчаянней. Едем… На слишком крутом спуске старшина останавливает машину и, высунувшись из кабины, велит нам слезать и спускаться к подножию сопки своим ходом. Для безопасности. Он прав, наш старшина. Он молодец. И вот мы, распластавшись, слезаем и пускаемся – нет, не по дороге, она виляет туда-сюда - а напря
...
Читать дальше »
|
Марик закурил, помахал в воздухе спичкой, пока она не погасла. Сигареты лежали на столе – красная пачка возле вазы с увядшими ромашками. У одной были оборваны лепестки. Я сказал, что тоже закурю. Разве я стал курить? Нет, только иногда, довольно редко… Ну-ну, лучше не привыкать… Сигареты были приятны на вкус. Такие мне еще не попадались. Мы ждали, когда нам подойдет официантка, и я стал смотреть на улицу с мокрым асфальтом, с деревьями за забором на противоположной стороне, с немым движением машин, людей… А здесь было пусто, только один столик позади нас был занят парочкой. Мне нравилось, что здесь пусто. Фигуры из сигаретного дыма теряли свою объемность у потолка. - Что возьмем? – деловито спросил Марик. Я не знал, что нужно взять, я не разбирался в таких вещах, хотя они и заслуживали внимания, но у мне не было на них времени… Все-таки нужно было что-то взять, и я сказал, пусть Марик сам выберет, на свой вкус, что-нибудь среднее. Мы сидели в ожидании официантки и Марик спросил: - Видишь? Я посмотрел: - И что? - Я ее знаю. Был тут скандал из-за меня. - По пьянке? - Вроде того. - С ее участием? - Нет, просто она меня запомнила. Официантка заметила, что мы о ней говорим – она шла между столиков к нам, еще не решив, узнавать Марика или нет, но он сказал «Здравствуй, Алла» и она заулыбалась нам, как своим знакомым. Марик заговорил с ней. Я не слушал, пока Марик не повернулся ко мне: - Будешь? Теперь и Алла смотрела на меня. - Что именно? - Коктейль «Юрмала». - Да, возьмите «Юрмала», - сказала Алла. - Это наш самый хороший коктейль. - Два коктейля… - сказал Марик. Алла кивнула и ушла. - Ну как? – спросил Марик. Он хотел выглядеть взрослым – все-таки два года не виделись. Я одобряюще кивнул, хотя мне было все равно. Алла вернулась к стойке бара, откуда негромко раздавалась музыка. От глубоких затяжек слабо кружилась голова. Марик положил свою сигарету на край стола – дым тонкой извилистой струйкой потянулся вверх. - Черт! Не могу себе простить – в такой день и напиться! - Брось! Я же не предупредил, что прилетаю. - Нет, все равно… За большими окнами сгущались сумерки. Она сказала, что рано ляжет. Наверное, уже легла. Она выглядела усталой сегодня. Наверное, уже уснула. А радио так и осталось невыключенным и что-то бормочет... Тихая музыка… И кот… Вот кого невозможно узнать. Медленное равнодушное существо. Как он раньше гонялся за бумажкой на бечевке… Смешно, но все изменилось, как изменился этот кот. Я так ей и сказал. Даже растерялся, когда его увидел… Я сказал: «Сколько раз я представляя себе…» «Ничего не надо представлять и все будет нормально!» – ответила она. Нормально? - Нет, это здорово , что ты приехал, - сказал Марик. - Я просто обалдел, когда тебя увидел. - Да, ты был хорош... Еще не видел тебя пьяным. - Дурацкое состояние. И ничего не можешь с собой поделать. - Но мы пошли на залив и ты искупался. - Все равно голова как чугунок. - Ты искупался и я нашел в песке твои часы. - Вот именно – в песке… Я закурил третью сигарету. Со стойки бара доносилась музыка - играл джаз и пела певица. When they begin the beguine It brings back the sound of music so tender, It brings back a night of tropical splendor, It brings back a memory ever green. Джаз всегда поднимал настроение. На стекле лицом к улице был написан весь ассортимент напитков по-латышски и по-русски, но отсюда казался одинаково непонятным. Мы молчали, я курил, играл джаз и нам несли коктейли. Официантка возникла в глубине стекла и приближалась к нам – все четче проступал ее белый передник… Марик взял со стола потухшую сигарету и воткнул в пепельницу. В отражении у него был мужественный профиль. Я обернулся. Алла ставила на стол коктейли. - Пожалуйста, - сказала она, объединяя нас равнодушной улыбкой. Марик, полуприкрыв веки, кивнул. Ему хотелось, чтобы я оценил его взрослость. Я взял фужер. Коктейль был темно-красного цвета с куском льда и крепкий на вкус. Марик тоже попробовал и теперь растерянно смотрел на меня: - Ну как? Мне стало смешно: - Крепкий. Сейчас я тебя догоню… - Ну и гадость! - Нет, просто очень крепкий… - Какая гадость! - Тогда зачем брал? - Сам просил… - Я просил что-нибудь среднее. - Мда… - постучал Марик пальцами по столу, - везет же. И что теперь будем делать? - Пить. - Я не буду. С меня хватит. Коктейль был крепкий и густой, как ликер. - Слишком сладкий, - сказал я. - Вообще пьяная гадость! Марик привстал, решительно оглядываясь. - Что ты хочешь? - Подожди. - Я пью. - Подожди. Аллы в зале не было. Марик жестом подозвал другую официантку. Медленно переломившись в талии, она оперлась руками о край стола. Разговор был безукоризненно вежлив. Марик спросил, можно ли обменять коктейли, так как мы ошиблись с выбором. Официантка говорила с акцентом. У латышек приятный акцент, когда они говорят по-русски. О, она бы с удовольствием заменила, но это не полагается, тем более что в фужерах уже начал таять лед. Она бы с удовольствием, но увы… Ей, конечно, очень жаль, что она ничем не может нам помочь. Марик прикусил нижнюю губу и поводил головой – он готов был смириться с тем, что сегодня все наперекосяк. Хорошо, что нам ничего не обменяли. Теперь я хотел, чтобы коктейль был крепкий, чтобы он хоть как-то подействовал на меня. Я вынул из кармана деньги и положил на стол. - А это зачем? – сказал Марик. - Возьми, - сказал я. – Боюсь, что придется повторить. А расплачиваться тебе. Марик усмехнулся, но деньги взял. Я был благодарен ему, что не остался этим вечером один. Не знаю, что было бы иначе. А так мы сидим здесь, играет музыка, коктейль, сигареты и все почти хорошо… I'm with you once more under the stars, And down by the shore an orchestra's playing And even the palms seem to be swaying When they begin the beguine. Марик еще раз попробовал коктейль, решительно отодвинул фужер в сторону и стал мрачно смотреть мимо меня на тех, кто сидел сзади. А сзади сидели он и она: они вели тихий влюбленный разговор, она катала стеклянную трубочку по ободу бокала, а он улыбался ей. Марик смотрел на них слишком навязчиво, но они ни в чем не были виноваты перед моим другом. Просто он окончательно протрезвел. Cтекло стало покрываться блестящими штрихами – на улице пошел дождь и все заспешило в новом мелькающем ритме, но вскоре совсем стемнело, и за нашим собственным отражением уже почти ничего не было видно - разве что лишь когда мимо, светя фарами, проезжала машина или кто-то останавливался возле витрины. Мой фужер был пуст. - Что бы еще попробовать? – сказал я. Марик поднял брови. - В смысле выпить, - сказал я. - «Спутник», кажется, ничего, - сказал он, - но я не буду.. - Одному как-то глупо, - Пей, - сказал он. – Я же без тебя пил днем… Я заказал один «Спутник». Коктейль оказался действительно «ничего». Я пил и кури л, а Марик сидел мрачней тучи. Я ему сочувствовал, хотя был готов к тому, чтобы посочувствовали мне. Играл джаз и пел голос. Голос Эллы Фитцджеральд. Я знал эту композицию Кола Портера – «Begin the beguin». Было плохо слышно, но я и так помнил слова. To live it again is past all endeavor, Except when that tune clutches my heart, And there we are, swearing to love forever, And promising never, never to part. Да, эта мелодия сжимает мне сердце, но что поделаешь. Все так и было, Правда мы тогда не клялись в любви друг другу, мы просто не знали что это такое. И пальм не было, но все остальное было – и музыка, и берег моря, и звезды, и все остальное, тогда, два года назад, когда ей было пятнадцать лет, а мне семнадцать. А сегодня днем было совсем иначе… Обратно мы шли по дюнам, пока она не устала, и тогда мы сели на песок между сосен с видом на море и пляж. Она говорила , что все изменилось и что теперь мы совсем другие, но мы можем остаться друзьями, и что она будет мне писать, если мне это нужно. - А тебе? – спросил я, не смея спросить о большем, о главном, что уже и так было ясно. У нее на коленях лежал плащ и я все надеялся на дождь, который бы нас объединил, но дождь так и не пошел и чуда не случилось. Старый друг… Это она про меня… Нет, старым другом я был только для Марика. Она чувствовала себя очень усталой. Не я ли тому виной, вдруг словно из небытия возникший сегодня на пороге ее дачи. Я ведь два года ей не писал и она имела полное право меня забыть. Отчего же я сам рванулся сюда, в свое прошлое. Зачем я тут? What moments divine, what rapture serene, Till clouds came along to disperse the joys we had tasted, And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean; - Ты стал совсем другим, - услышал я голос Марика. - Это я сегодня уже слышал… - От нее? Я кивнул. - Кстати, как она? - Хорошо. У нее все хорошо. - Зачем ты так постригся? Чуть не наголо… - Удобно. - Хотел сказать, что тебе идет. - Тебе тоже, без усов. - Да, сбрил нафиг, а то за грузина принимают… Когда мы вышли из кафе, дождь почти прекратился, с неба сыпалась лишь мелкая морось – ее было видно в свете фонарей и фар проезжающих машин. Горели огни рекламы и растекались по мокрому тротуару. Мы повернули к пляжу. Во рту стоял приятный вкус коктейля и выкуренных сигарет и голова больше не кружилась. Море слабо различалась только у берега. Мы пошли по пляжу. Так же, как я с ней. Та
...
Читать дальше »
| |